Oшибка предположительно знающего субъекта
la Méprise du sujet supposé savoirsuppose-savoir
la Méprise du sujet supposé savoirsuppose-savoir
Жак Лакан
Что же такое бессознательное? Предмет еще не был понят.
Что же такое бессознательное? Предмет еще не был понят.
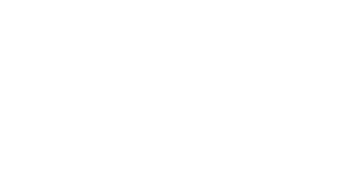
Десятилетиями психоаналитики стараются «обнадежиться» этим революционным для мышления открытием, извлечь из него опыт для создания привилегии; но так как подобное человек может оценить в себе лишь сам, дошло до того, что психоаналитики отказались даже от плодов усилий по работе с бессознательным: пожелав «обнадежить» себя сами, они смогли забыть об открытии.
Они об этом меньше печалились и потому, что бессознательное никогда не обнаруживается лучше, чем когда схвачено по факту и главное, они пропустили пояснение, которое все же очертил Фрейд: что структура бессознательного не рушится ни от одного представления, скорее, использует его и обращается к нему лишь за маскировкой (Rücksicht auf Darstellbarkeit - соображения о представлении).
Фальшивая политика, которая управляет рынком путем провокаций, выглядит наивно-безобидно за неимением поддержки «гуманитарных наук». Вот так же и не было известно, как бы так захотеть, чтобы сделалось надежным Unheimlich, бессознательное, столь ненадежное, как и сама его природа.
Считается допустимым, что моделью для объяснения бессознательного может служить что угодно: паттерн поведения, инстинктивные склонности вплоть до филогенетики. В этом уже узнается «воспоминание» у Платона: душа еще до рождения постигла сущность созревания, что искажает смысл так называемых прегенитальных фаз (оральной, анальной), и несется сдвигать последовательность полового развития в высшие сферы... Необходимо понимать, что это аналитическое лицедейство, которым стряпают себе карьеру невиданным образом даже для Франции, изысканной до чудаковатости. Происходит поправка на все известное, чем можно прикрыться: нескрываемая копрофилия по удобному случаю.
Добавим к списку телеологию, чтобы отделить итоги жизни от итогов смерти. Все эти объяснения – это наивные интуитивные представления, которые вместо бессознательного объясняют нам только воображаемое. За счет этого значение бессознательного либо безмерно раздувают, либо же это песенка заканчивается тем, что ни у кого бессознательного нет. Но пусть эти представления не лишают каждого той правды, отражение которой видно в ложных отблесках.
Но чем же они ложные, скажут мне, какого черта?
Да просто несоответствие или обман бессознательного разоблачаются риторическими перегрузками, как это аргументировано доказывает Фрейд. Эти представления перемешиваются, как он высказался, как в котле, где ошибка устраняется из-за того, что:
во-первых, она не была мне доступна,
во-вторых, когда я ее получил, она уже была искажена,
в-третьих, в момент ее выдачи.
И дальше сами разбирайтесь.
Если кто-то отдает себе в этом отчет, то всю теорию мы будем брать не из дискурса бессознательного.
Ежели басни Фрейда смешат, это доказывает, что он коснулся в правильном месте. Но он не рассеял обскурантизм, низводящий его самого до развлечения.
Я точно так же заставлял мою аудиторию зевать три месяца, вместо того, чтобы отцепить люстру и раз и навсегда сделать ясным в Witz Фрейда (переводится как острота) саму артикуляцию бессознательного. Дело было не в недостатке пыла, уж поверьте мне, ни в недостатке, осмелюсь сказать, таланта.
Тут я коснулся сил, из которых следует, что Witz, работа известная батальонам Института психоанализа только как «прикладной психоанализ», была проблеском для Эрнста Криса, не-доктора из Нью-Йоркского трио, и что дискурс бессознательного обречен: в итоге он лишь носит это звание безо всякой надежды на метаязык.
Остаются еще хитрецы, умаляющие бессознательное, и это сводится к противопоставлению его Богу Эйнштейна. Известно, что Бог для Эйнштейна не был лишь манерой высказываться, скорее, стоит сказать, что он его касался при возникновении такой необходимости: что он, конечно, был сложным, но не бесчестным.
Тот, кого Эйнштейн поддерживает в физике (и здесь это субъективный фактор) для создания своего партнера, не является плохим игроком, он вовсе даже не игрок, и он ничего не делает, чтобы сбивать с толку, и он даже не играет при тщательном рассмотрении.
Достаточно ли полагаться на тот контраст, который – подчеркнем это – дает понять, насколько бессознательное проще? Из-за того, что бессознательное легко вертит даже хитрецами, стоит ли нам полагать бессознательное сосредоточием бесчестности? Именно в этом нужно быть осмотрительными.
Недостаточно, чтобы оно было коварным, или хотя бы таким казалось. Можно быстренько слепить выводы для птенцов-желторотиков, где все построения в итоге скомкались бы в фарш. Слава тебе Господи! для тех, кому бы это подошло, у меня была гегелианская историйка на мой лад, состоящая из ухищрений разума, чтобы дать им прочувствовать разницу и чтобы наконец-то нам стало ясно, почему они проиграли заранее.
Изучим комическое, – я им его никогда не выделял, ведь ввиду высказанных выше положений, куда бы это завело? комическое, исходя из этого соображения, чего же оно бесконечно избегает и к чему нас приводит? к тому, что проявляется концом истории как абсолютное знание.
Вспомним-ка тут насмешку такого знания, которая смогла сковать юмор Кено (Раймон Кено – фр. литератор сер. ХХ в. – прим.перев.), которая созрела на тех же скамьях, что и я со своим Гегелем, либо же его «воскресенье жизни», где появляется лодырь и шалопай, демонстрирующий в абсолютной лености знание, годное для удовлетворения животного? или просто мудрость, удостоверяющую сардонический смех Кожева, ставшего учителем нам обоим.
Задержимся на этом контрасте: пусть коварство рассудка доведет свою игру до конца.
Это рассуждение приводит к тому, мимо чего мы прошли слишком быстро. Если закон природы (Бог в физике) сложен, как же так происходит, что мы достигаем его, лишь играя по правилам простой мысли, услышим-ка ее: кто не воспроизводит свою гипотезу до тех пор, пока она не лишится всех излишеств? То ли это, что отобразилось в уме Оккама бритвой, не позволяя нам на грани нашего знания сполна отдать должное бессознательному, которое, в конце концов, оказалось неплохим резчиком?
Вот кто, пожалуй, лучше введет нас в этот аспект бессознательного, открывая бессознательное настолько, насколько это следует из его закрытости. Но не потеряем ли мы так из виду вторичные проявления? Фрейд хорошо предвидел то, что мы начали вскрывать, это ясно из его предупреждения об усилении разрядки, которое происходит в клиническом смысле, нарастая за счет производных, чтобы ими же сойти за отклонение, тем более умышленное, чем менее преднамеренной будет сдача непреодолимости бихевиоризма, чтобы проторить этот путь.
Это высказывание позволяет заметить, кому в нашей школе чтение Фрейда пошло впрок: что сам бихевиоризм как дисциплина определяется отрицанием (Verneinung) принципа реальности.
Вот где бы разгуляться бритве, и я этим подчеркиваю, что ни от чего не намерен уклоняться в своей полемике, ни тут, ни далее; я показываю и отстаиваю то, что даже в связке психоанализа с объектом аналитик обнаруживает свое значение из существования полезного мусора, так?
Если покажется, что я осуждаю недостатки психоаналитика ради его предательства, то я уберу все сомнения, формулируя в этом году свой взгляд на психоаналитический акт.
Акт, который я основываю на той парадоксальной структуре, что объект в нем активен, а субъект извращен, и там же я открываю метод теории тем, что она не может, при всех исправлениях, поддерживаться теми, кто безответственно довольствуются фактами из практики.
И еще, не от резвости ли практики поблекло то бессознательное, которое я сейчас расписываю?
Нужно, чтобы я обрисовал процесс, связанный собственной структурой. Любая критика, ностальгирующая по бессознательному в цветении первой юности, по практике в ее еще дикой тогда дерзости, сама будет чистым идеализмом. Просто наш реализм не подразумевает прогресса в движении, который вырисовывается из самого факта последовательности. Он этого никак не подразумевает, потому что придерживает это для одной из самых пошлых фантазий, заслуживающей в любые времена определяться как идеология; здесь как с влиянием обменного курса на состояние рынка. Нужно, чтобы движение универсума дискурса было представлено, по меньшей мере, как рост сложных процентов по инвестиционным доходам.
Но только когда речь не идет о прогрессе, как оценить регрессию, собственно, регрессию мысли? Давайте изучим, как эта отсылка к еще не определенной мысли формирует долговое обязательство; но тут дело и в том, что мы не можем дать определение, пока мы не ответили на вопрос о том, что же есть бессознательное. Так как бессознательное, перво-наперво, это тот, кто хочет сказать свое: что же это, quod est formula1 Lacan, и поскольку это субъект всего, что может быть с ним соотнесено, это в сущности то, что Фрейд говорит об этом вначале: это мысли.
Вернемся к регрессии мысли, способно ли это понятие продолжить ход мысли наших предшественников: это хищное движение на выход с высасыванием из пальца парочки представлений из применения знания, и тогда это исповедь авторов, которые поднимаются либо за счет подобного опустошения (бихевиорист или мифологизатор в лучшем случае), либо за счет того, что они могут поддержать пузырь, только нафаршировав его «парафином» из позитивизма по здешней короткой сезонной моде (миграция либидо, выставляемая как эмоциональное развитие).
Из самого движения бессознательного следует уменьшение бессознательного до бессознательности, где момент уменьшения обирает себя невозможностью отталкиваться от движения как от своего основания.
Никакая претензия на знание не была бы здесь уместна, ведь мы не знаем даже, есть ли у бессознательного собственное бытие, и что эта невозможность сказать «это есть оно «что это было названо именем оно». (Es по-немецки: оно, в том смысле, когда говорится, что что-то «грузит» или «охрененно»). В итоге бессознательное «это не оно», или «такое же, но с перламутровыми пуговицами». И никогда из выделанной овчинки.
«Я обманщик жизни», говорит четырехлетний карапуз, попадая в ловушку своей способности к воспроизводству, перед отцом, который только что ответил ему: «Ты красивый» на его вопрос «Чего смотришь на меня»? И отец не узнает в этом (даже из того, что ребенок потом обманывал его, что якобы потерял вкус к ощущению себя с того дня, как он заговорил) тупик, который сам по себе прикрывает Другого, играя в смерть. Это к отцу, который мне это рассказал, согласен он со мной или нет.
Невозможно найти бессознательное, не приделав к нему все перламутровые пуговицы, потому что его функция состоит в уничтожении субъекта. Отсюда афоризмы Лакана: «Бессознательное структурировано как язык», или же еще «Бессознательное, это дискурс Другого».
Это напоминает, что бессознательное, это не потерять память; это не вспоминать о том, что уже известно. Ведь высказывание: «я об этом вспоминаю», если отбросить пуризм значит: «я вспоминаю о бытии (представлении) начиная отсюда». Откуда? От означающего.
«Об этом, говорит субъект, я не помню». – Либо: по зову означающего где надо было бы «чтобы он меня представлял для другого означающего», я не отвечаю.. «настоящее», по причине что от эффекта этого зова я уже больше ничего не представляю из себя. Я темная комната, где его зажгли: можно только грубо прикинуть сквозь крошечную дырочку что же там видно снаружи. Бессознательное не сублиминально, оно почти не ясно. Оно тот свет, который не оставляет места тени, мы сами создаем его контур. Оно представляет мое представление там, где оно отсутствует, иначе же я просто буду отсутствием субъекта.
Отсюда термин Фрейда: репрезентатор представления.
Я уже не помню. Это значит, я уже себя не нахожу в этом. Это от меня не требует ни одного представления, из которого следовало бы, что я в этом жил.
Это представление – то, что мы называем воспоминанием. Воспоминание, если проехаться по нему, исходит из двух источников, которые все до сих пор путали:
Забавно отметить здесь: вспоминать о, происходит от: вспоминать о, что отвергли пуристы, и что датируется XIV веком.
1) введение живого в реальность, которая есть то, что он о ней воображает, и которая может измеряться тем, как он на нее реагирует;
2) связь субъекта с дискурсом, откуда он может быть убран, то есть не знать, что этот дискурс подразумевает для него.
Прекрасная картина амнезии, называемой идентичностью, должна была бы здесь стать назидательной.
Нужно учесть, что использование имен собственных, помимо социальной необходимости, не раскрывает тут своих истоков. И здесь мы можем назвать амнезию затмением, которое продлевается аж до собственной гибели: тайное послание не различимо тем лучше, что субъект не теряет никакой выгоды от познания.
Все, что исходит из бессознательного, играет на особенностях языка. Это что-то, что говорится так, чтобы субъект не выражал себя в этом и ничем не выказал себя в этом, - и чтобы он не знал, что именно он говорит.
Трудность не в этом. Порядок неопределимости, который составляет отношение субъекта к превосходящему его знанию, есть результат, если можно так высказаться, нашей практики, которая его навязывает настолько, настолько она интерпретативна.
Чтобы тот, кто высказывается, мог иметь высказывание без того, чтобы было известно кто говорит; вот в чем мысль себя обирает: это онтологическое противостояние. (Я играю словом on во французском языке – безличной формой – из этого я извлекаю, предупредив, поддержку для бытия, ön и вовсе не фигуру обобщения: короче, это предположительно знающий субъект).
Если, обобщая, мы привыкли интерпретировать, то это тем легче, что было сделано намного раньше религией.
Именно этим некая университетская непристойность, величающая себя герменевтикой, зарабатывает на свой хлеб с маслом в психоанализе.
Именем паттерна, и вознесенной phylos, и эталона-любви, этакого философского камня посредников интерсубъективности, и без того чтобы кто-то хоть когда-то притормозил перед тайной этой пестрой Троицы, интерпретация дает полное удовлетворение… но кому же? В первую очередь, психоаналитику, который кутается в благословляющий морализм, где исподнее считается высшей ценностью.
Тройное вымя питает небольшое число тех, кто услышали зов, уже будучи избранными, кто никогда не станет действовать: соображения конформизма, уважение наследия и жажда примирения.
Таким образом, камни, о которые его пациент спотыкается, не что иное, как устланная его добрыми намереньями дорога, годный способ для психоаналитика не отвергать движения того ада, из-за которого Фрейд ушел в отставку (SinequeoflectereSuperos - если не можем попасть в рай, то пойдем хоть в ад).
Ну уж и не к этой пасторали, не к этому подобию овечьей загородки вел Фрейд. Достаточно почитать его.
И то, что он назвал мифологией теорию влечений, еще не значит, что не нужно принимать всерьез описываемое в ней.
То, что демонстрирует эта теория, мы, скорее, назовем структурой желания, сформулированного Спинозой как горючее человека. Проявленное в структуре романских языков желание освободиться от высшего влияния претерпевает тут дефляцию, которая приводит к его небытию.
Довольно карикатурно, если психоаналитик верно нащупал, из своей склонности к анальным импульсам, что золото это дерьмо, а затем стал где-то сбоку расколупывать ранку любови, и затирать ее мазью аутентичности, трактуя золото как fonset… origo – начало… начал.
Вот почему психоаналитик не интерпретирует более как во времена belle époque, мы-то знаем. То есть, он сам плюнул себе в колодец.
Но так как хорошо было бы встать с четверенек, он пытается стать самостоятельным, то есть он ограничивает желание и воображает, что от этого становится самостоятельнее (фрустрация, агрессия… и т.д.). Castigatmores, бичует нравы, скажем мы: ridendo, смеясь? Увы, нет! Тут не до смеха: он выхолащивает нравы исходя из своих собственных странностей.
Интерпретация, он ее сводит к переносу, снова приводящего нас к безличной форме, нашему оn.
Выше мы сказали, как сегодняшний психоаналитик накапливает материал от анализанта: это все не к нему относится, а то, что он сможет проглотить, нужно облечь в форму, в форму жиденького… и тогда он приоткроет свой хорошенький клювик, если не закапризничает. Нет, то, что покрывает психоаналитик, это и то, чем он покрывается сам, Он заставляет себя сказать хоть что-нибудь, даже если до субъекта не дойдет это знание.
Méné, méné, thékel, oupharsin. Тебя оценили и сочли негодным. Если это проступает на стене, чтобы все это читали, то вам подпортили царствие на земле. Значит, это звучит в нужном месте.
И на одном махе с этим приписывают фарс Всемогущества, как если бы дыра закрылась сразу как о ней сказано, и во внимание не принимается даже то, что бряцанье этой поделки само является основным барьером для главного желания, желания спать. То, что Фрейд сделал последней инстанцией сновидения.
Не были бы вы так добры заметить, что единственное отличие, но такое, которое сводит в ничто то, что оно отличает, отличие бытия, то, без которого бессознательное Фрейда ничтожно, отличие в противовес всему что раньше выпустили под лейблом бессознательного, отличие, отмечающее все из области обращения к субъекту при появлении знания, возникает лишь когда речь заходит об том, что является для субъекта ошибкой?
Vergreifen(означ. у Фрейда: ошибка, это его слово для симптоматических действий), обходит Begriff (или же представление), производя пустоту, что проявляется и утверждается в том, что даже отрицание ошибки является индикатором согласия с тем, что она не изменит последующих действий.
Внезапно возникает вопрос, показывать ли ответ, который защитит его от противопоставлений. Знание может возникать лишь в ошибке субъекта, и как же мы заранее узнаем, каков из себя субъект?
Говоря об открытии числовых множеств, мы легко можем его предположить из того, как Кантор споткнулся о пустячную диагональ десятичных дробей, но мы себе не упростим вопрос, размышляя о ярости, которые его конструкции возбудили в Кронекере. Но пусть этот вопрос не заслоняет другой, относящийся к возникшему так знанию: с чего мы взяли, что числовые множества, которые «всего-навсего надо было узнать», ждали того, кто должен был стать их изобретателем? Если этого нет ни в одном субъекте, то Это тот, в котором содержится on бытия?
Предположительно знающий субъект, сам господь Бог, как называл его Паскаль, смотря на него с изнанки: это не Бог Авраама, Исаака и Якова, но Бог философов, вот он сияет своим латентным присутствием из любой теории. Theoria, станет ли она местом для мира théo-логии?
Это в христианской традиции с тех пор, как она существует, и приуменьшая это, атеист показывает того, кто за нее крепче всех держится. Мы догадывались: этот Бог немного больноват. Вменяемым его не сделает ни служитель экуменизма, ни лакановский Другой с большой буквы Д, даже и не надеюсь.
Для Dio-логии нужно было бы отделиться от этого: его Отцы нагромождают все от Моисея до Джеймса Джойса, не забывая и Мейстера Экхарта, но сдается нам, что опять-таки Фрейд лучше всего указал его место. Как я и говорил: без этого указания мест психоаналитическая теория ужалась бы до крайних точек, до разбора бреда типа шреберского: сам Фрейд в этом не ошибся и не побоялся это признать (означ. в точности его «случай Шребера»).
Это место Бога-Отца, это то, что я обозначил как Имя-Отца и то, что я предлагал иллюстрировать тем, чем должен был стать тринадцатый год семинаров (мой одиннадцатый в св. Анне), когда один пассаж моих коллег-психоаналитиков заставил меня отложить этот замысел после первого же урока. Более я не вернусь к этой теме, я увидел в этом знак, что сия печать не может быть сорвана даже ради психоанализа.
В итоге, на этом разверзнутом соответствии подвешена позиция психоаналитика. Не потому ли он призван создать теорию главной ошибки для субъекта теории: то, что мы назовем предположительно знающим субъектом.
Теорию, включающую нехватку, проявленную на всех уровнях, прописать здесь это в неопределяемости, здесь конечно, и сформировать узлы неинтерпретируемого; я этим пользуюсь неуверенно, чтобы не подтвердить беспрецедентное исключение. Вопрос тут вот в чем: что я такое, чтобы осмелиться на подобную разборку? Ответ прост: психоаналитик. Этого ответа достаточно, если к тому же учесть, что я практикующий психоаналитик.
Ведь именно начиная с практики психоаналитик должен пренебречь структурой, которая его определяет даже не в ментальной форме, увы! именно тут тупик, но в его позиции субъекта, поскольку он закреплен в реальности: это закрепление надлежащим образом определяет действие.
В структуре ошибки предположительно знающего субъекта, психоаналитик (но кто это, и где он, и когда он, заткните лиру категорий, психоаналитик это значит индетерминированность своего субъекта?), психоаналитик, тем не менее, должен отыскать уверенность в своем действии и разрыв, который диктует свои законы.
Стану ли я напоминать тем, кто об этом что-то знает, о несводимости того, что остается в финале психоанализа, и что Фрейд обозначил (Analyse finie et indéfinie - в Анализе конечном и неопределяемом) терминами кастрации и даже в зависти к пенису?
Можно ли избежать того, что обращаясь к никак не подготовленной в этому погружению в психоаналитический акт аудитории (поскольку этот акт представлялся ей только под искажающими покровами), я оставляю тему моего дискурса тем, чем она является для нашей реальности психологической фантастики: в худшем случае – субъект представления, субъект епископа Беркли, тупик идеализма; в лучшем случае – субъект коммуникации, интерсубъективность послания и информации, что не в состоянии даже послужить нам в нашем деле?
Несмотря на все то, чего мы коснулись на этой встрече, и вплоть до мнения, что я популярен в Неаполе, я все же не могу видеть в успехах своих Записок большее, чем знак предчувствия универсальности из иных более туманных построений.
Данная интерпретация, конечно же, верна, если она является порождением этого эхо вне французского поля, где теплый прием объясняется скорее тем, что я поддерживаю изоляцию 20 лет.
Ни один критик, со времени издания моей книги, не выполнил своей работы, которая заключалась в отдании отчета о моем существовании, ну кроме именуемого Жаном-Мари Озиасом, в одном из этих изданий на туалетной бумаге, где маленький формат не оправдывает типографической небрежности, это называется: Clefs du structuralisme, Ключи структурализма: часть IX посвящена мне, а в остальных на меня есть ссылка. Жан-Мари Озиас, повторюсь, подает надежды как критик, avis rara – редкие мысли.
Несмотря на этот случай, я ожидаю от тех, к кому я здесь обращаюсь, лишь подтверждения того, что они не в курсе.
Хотя бы запомните то, о чем вам свидетельствует этот текст, который я вам вбросил: мое предприятие в своих действиях не превышает полномочий, и поэтому мне везет только в моих ошибках (игра слов: в презрении – прим.перев.).
И опять о психоаналитическом акте, нужно ли говорить, что при типичном рассмотрении он просто упускается, это определение не навязывает (как и нигде в нашей области) взаимности, которая так дорого ценится в психологической бессвязице.
Это значит, что для успеха не достаточно окопаться и тут засесть, и из одного только наличия разрыва не следует, что тема ошибок полностью раскрыта.
Определенная задержка мысли в психоанализе, - оставляя играм воображения все, что может возникнуть из эксперимента, который с ними проделал Фрейд, составляет разрыв без дополнительных значений.
Вот почему значительная часть моего преподавания не есть психоаналитической действие, но полемический тезис, со всеми присущими спорами, об условиях, которые дублируют ошибку присущую акту, о неудаче при ее появлении.
Не будучи в состоянии изменить эти условия, я направляю усилия на выделение этой неудачи.
Ложная ошибка, эти два термина из названия комедии Мариво, обретают тут обновленный смысл, который радует нас самой этой находкой. В Риме, в память о поворотном для меня моменте, который там произошел, я изложу, насколько получится, соображения об измерении этой неудачи.
Судьба покажет, великим ли станет будущее тех, кого я обучал.
Ж.Л.
Перевод П.Ювченко
Они об этом меньше печалились и потому, что бессознательное никогда не обнаруживается лучше, чем когда схвачено по факту и главное, они пропустили пояснение, которое все же очертил Фрейд: что структура бессознательного не рушится ни от одного представления, скорее, использует его и обращается к нему лишь за маскировкой (Rücksicht auf Darstellbarkeit - соображения о представлении).
Фальшивая политика, которая управляет рынком путем провокаций, выглядит наивно-безобидно за неимением поддержки «гуманитарных наук». Вот так же и не было известно, как бы так захотеть, чтобы сделалось надежным Unheimlich, бессознательное, столь ненадежное, как и сама его природа.
Считается допустимым, что моделью для объяснения бессознательного может служить что угодно: паттерн поведения, инстинктивные склонности вплоть до филогенетики. В этом уже узнается «воспоминание» у Платона: душа еще до рождения постигла сущность созревания, что искажает смысл так называемых прегенитальных фаз (оральной, анальной), и несется сдвигать последовательность полового развития в высшие сферы... Необходимо понимать, что это аналитическое лицедейство, которым стряпают себе карьеру невиданным образом даже для Франции, изысканной до чудаковатости. Происходит поправка на все известное, чем можно прикрыться: нескрываемая копрофилия по удобному случаю.
Добавим к списку телеологию, чтобы отделить итоги жизни от итогов смерти. Все эти объяснения – это наивные интуитивные представления, которые вместо бессознательного объясняют нам только воображаемое. За счет этого значение бессознательного либо безмерно раздувают, либо же это песенка заканчивается тем, что ни у кого бессознательного нет. Но пусть эти представления не лишают каждого той правды, отражение которой видно в ложных отблесках.
Но чем же они ложные, скажут мне, какого черта?
Да просто несоответствие или обман бессознательного разоблачаются риторическими перегрузками, как это аргументировано доказывает Фрейд. Эти представления перемешиваются, как он высказался, как в котле, где ошибка устраняется из-за того, что:
во-первых, она не была мне доступна,
во-вторых, когда я ее получил, она уже была искажена,
в-третьих, в момент ее выдачи.
И дальше сами разбирайтесь.
Если кто-то отдает себе в этом отчет, то всю теорию мы будем брать не из дискурса бессознательного.
Ежели басни Фрейда смешат, это доказывает, что он коснулся в правильном месте. Но он не рассеял обскурантизм, низводящий его самого до развлечения.
Я точно так же заставлял мою аудиторию зевать три месяца, вместо того, чтобы отцепить люстру и раз и навсегда сделать ясным в Witz Фрейда (переводится как острота) саму артикуляцию бессознательного. Дело было не в недостатке пыла, уж поверьте мне, ни в недостатке, осмелюсь сказать, таланта.
Тут я коснулся сил, из которых следует, что Witz, работа известная батальонам Института психоанализа только как «прикладной психоанализ», была проблеском для Эрнста Криса, не-доктора из Нью-Йоркского трио, и что дискурс бессознательного обречен: в итоге он лишь носит это звание безо всякой надежды на метаязык.
Остаются еще хитрецы, умаляющие бессознательное, и это сводится к противопоставлению его Богу Эйнштейна. Известно, что Бог для Эйнштейна не был лишь манерой высказываться, скорее, стоит сказать, что он его касался при возникновении такой необходимости: что он, конечно, был сложным, но не бесчестным.
Тот, кого Эйнштейн поддерживает в физике (и здесь это субъективный фактор) для создания своего партнера, не является плохим игроком, он вовсе даже не игрок, и он ничего не делает, чтобы сбивать с толку, и он даже не играет при тщательном рассмотрении.
Достаточно ли полагаться на тот контраст, который – подчеркнем это – дает понять, насколько бессознательное проще? Из-за того, что бессознательное легко вертит даже хитрецами, стоит ли нам полагать бессознательное сосредоточием бесчестности? Именно в этом нужно быть осмотрительными.
Недостаточно, чтобы оно было коварным, или хотя бы таким казалось. Можно быстренько слепить выводы для птенцов-желторотиков, где все построения в итоге скомкались бы в фарш. Слава тебе Господи! для тех, кому бы это подошло, у меня была гегелианская историйка на мой лад, состоящая из ухищрений разума, чтобы дать им прочувствовать разницу и чтобы наконец-то нам стало ясно, почему они проиграли заранее.
Изучим комическое, – я им его никогда не выделял, ведь ввиду высказанных выше положений, куда бы это завело? комическое, исходя из этого соображения, чего же оно бесконечно избегает и к чему нас приводит? к тому, что проявляется концом истории как абсолютное знание.
Вспомним-ка тут насмешку такого знания, которая смогла сковать юмор Кено (Раймон Кено – фр. литератор сер. ХХ в. – прим.перев.), которая созрела на тех же скамьях, что и я со своим Гегелем, либо же его «воскресенье жизни», где появляется лодырь и шалопай, демонстрирующий в абсолютной лености знание, годное для удовлетворения животного? или просто мудрость, удостоверяющую сардонический смех Кожева, ставшего учителем нам обоим.
Задержимся на этом контрасте: пусть коварство рассудка доведет свою игру до конца.
Это рассуждение приводит к тому, мимо чего мы прошли слишком быстро. Если закон природы (Бог в физике) сложен, как же так происходит, что мы достигаем его, лишь играя по правилам простой мысли, услышим-ка ее: кто не воспроизводит свою гипотезу до тех пор, пока она не лишится всех излишеств? То ли это, что отобразилось в уме Оккама бритвой, не позволяя нам на грани нашего знания сполна отдать должное бессознательному, которое, в конце концов, оказалось неплохим резчиком?
Вот кто, пожалуй, лучше введет нас в этот аспект бессознательного, открывая бессознательное настолько, насколько это следует из его закрытости. Но не потеряем ли мы так из виду вторичные проявления? Фрейд хорошо предвидел то, что мы начали вскрывать, это ясно из его предупреждения об усилении разрядки, которое происходит в клиническом смысле, нарастая за счет производных, чтобы ими же сойти за отклонение, тем более умышленное, чем менее преднамеренной будет сдача непреодолимости бихевиоризма, чтобы проторить этот путь.
Это высказывание позволяет заметить, кому в нашей школе чтение Фрейда пошло впрок: что сам бихевиоризм как дисциплина определяется отрицанием (Verneinung) принципа реальности.
Вот где бы разгуляться бритве, и я этим подчеркиваю, что ни от чего не намерен уклоняться в своей полемике, ни тут, ни далее; я показываю и отстаиваю то, что даже в связке психоанализа с объектом аналитик обнаруживает свое значение из существования полезного мусора, так?
Если покажется, что я осуждаю недостатки психоаналитика ради его предательства, то я уберу все сомнения, формулируя в этом году свой взгляд на психоаналитический акт.
Акт, который я основываю на той парадоксальной структуре, что объект в нем активен, а субъект извращен, и там же я открываю метод теории тем, что она не может, при всех исправлениях, поддерживаться теми, кто безответственно довольствуются фактами из практики.
И еще, не от резвости ли практики поблекло то бессознательное, которое я сейчас расписываю?
Нужно, чтобы я обрисовал процесс, связанный собственной структурой. Любая критика, ностальгирующая по бессознательному в цветении первой юности, по практике в ее еще дикой тогда дерзости, сама будет чистым идеализмом. Просто наш реализм не подразумевает прогресса в движении, который вырисовывается из самого факта последовательности. Он этого никак не подразумевает, потому что придерживает это для одной из самых пошлых фантазий, заслуживающей в любые времена определяться как идеология; здесь как с влиянием обменного курса на состояние рынка. Нужно, чтобы движение универсума дискурса было представлено, по меньшей мере, как рост сложных процентов по инвестиционным доходам.
Но только когда речь не идет о прогрессе, как оценить регрессию, собственно, регрессию мысли? Давайте изучим, как эта отсылка к еще не определенной мысли формирует долговое обязательство; но тут дело и в том, что мы не можем дать определение, пока мы не ответили на вопрос о том, что же есть бессознательное. Так как бессознательное, перво-наперво, это тот, кто хочет сказать свое: что же это, quod est formula1 Lacan, и поскольку это субъект всего, что может быть с ним соотнесено, это в сущности то, что Фрейд говорит об этом вначале: это мысли.
Вернемся к регрессии мысли, способно ли это понятие продолжить ход мысли наших предшественников: это хищное движение на выход с высасыванием из пальца парочки представлений из применения знания, и тогда это исповедь авторов, которые поднимаются либо за счет подобного опустошения (бихевиорист или мифологизатор в лучшем случае), либо за счет того, что они могут поддержать пузырь, только нафаршировав его «парафином» из позитивизма по здешней короткой сезонной моде (миграция либидо, выставляемая как эмоциональное развитие).
Из самого движения бессознательного следует уменьшение бессознательного до бессознательности, где момент уменьшения обирает себя невозможностью отталкиваться от движения как от своего основания.
Никакая претензия на знание не была бы здесь уместна, ведь мы не знаем даже, есть ли у бессознательного собственное бытие, и что эта невозможность сказать «это есть оно «что это было названо именем оно». (Es по-немецки: оно, в том смысле, когда говорится, что что-то «грузит» или «охрененно»). В итоге бессознательное «это не оно», или «такое же, но с перламутровыми пуговицами». И никогда из выделанной овчинки.
«Я обманщик жизни», говорит четырехлетний карапуз, попадая в ловушку своей способности к воспроизводству, перед отцом, который только что ответил ему: «Ты красивый» на его вопрос «Чего смотришь на меня»? И отец не узнает в этом (даже из того, что ребенок потом обманывал его, что якобы потерял вкус к ощущению себя с того дня, как он заговорил) тупик, который сам по себе прикрывает Другого, играя в смерть. Это к отцу, который мне это рассказал, согласен он со мной или нет.
Невозможно найти бессознательное, не приделав к нему все перламутровые пуговицы, потому что его функция состоит в уничтожении субъекта. Отсюда афоризмы Лакана: «Бессознательное структурировано как язык», или же еще «Бессознательное, это дискурс Другого».
Это напоминает, что бессознательное, это не потерять память; это не вспоминать о том, что уже известно. Ведь высказывание: «я об этом вспоминаю», если отбросить пуризм значит: «я вспоминаю о бытии (представлении) начиная отсюда». Откуда? От означающего.
«Об этом, говорит субъект, я не помню». – Либо: по зову означающего где надо было бы «чтобы он меня представлял для другого означающего», я не отвечаю.. «настоящее», по причине что от эффекта этого зова я уже больше ничего не представляю из себя. Я темная комната, где его зажгли: можно только грубо прикинуть сквозь крошечную дырочку что же там видно снаружи. Бессознательное не сублиминально, оно почти не ясно. Оно тот свет, который не оставляет места тени, мы сами создаем его контур. Оно представляет мое представление там, где оно отсутствует, иначе же я просто буду отсутствием субъекта.
Отсюда термин Фрейда: репрезентатор представления.
Я уже не помню. Это значит, я уже себя не нахожу в этом. Это от меня не требует ни одного представления, из которого следовало бы, что я в этом жил.
Это представление – то, что мы называем воспоминанием. Воспоминание, если проехаться по нему, исходит из двух источников, которые все до сих пор путали:
Забавно отметить здесь: вспоминать о, происходит от: вспоминать о, что отвергли пуристы, и что датируется XIV веком.
1) введение живого в реальность, которая есть то, что он о ней воображает, и которая может измеряться тем, как он на нее реагирует;
2) связь субъекта с дискурсом, откуда он может быть убран, то есть не знать, что этот дискурс подразумевает для него.
Прекрасная картина амнезии, называемой идентичностью, должна была бы здесь стать назидательной.
Нужно учесть, что использование имен собственных, помимо социальной необходимости, не раскрывает тут своих истоков. И здесь мы можем назвать амнезию затмением, которое продлевается аж до собственной гибели: тайное послание не различимо тем лучше, что субъект не теряет никакой выгоды от познания.
Все, что исходит из бессознательного, играет на особенностях языка. Это что-то, что говорится так, чтобы субъект не выражал себя в этом и ничем не выказал себя в этом, - и чтобы он не знал, что именно он говорит.
Трудность не в этом. Порядок неопределимости, который составляет отношение субъекта к превосходящему его знанию, есть результат, если можно так высказаться, нашей практики, которая его навязывает настолько, настолько она интерпретативна.
Чтобы тот, кто высказывается, мог иметь высказывание без того, чтобы было известно кто говорит; вот в чем мысль себя обирает: это онтологическое противостояние. (Я играю словом on во французском языке – безличной формой – из этого я извлекаю, предупредив, поддержку для бытия, ön и вовсе не фигуру обобщения: короче, это предположительно знающий субъект).
Если, обобщая, мы привыкли интерпретировать, то это тем легче, что было сделано намного раньше религией.
Именно этим некая университетская непристойность, величающая себя герменевтикой, зарабатывает на свой хлеб с маслом в психоанализе.
Именем паттерна, и вознесенной phylos, и эталона-любви, этакого философского камня посредников интерсубъективности, и без того чтобы кто-то хоть когда-то притормозил перед тайной этой пестрой Троицы, интерпретация дает полное удовлетворение… но кому же? В первую очередь, психоаналитику, который кутается в благословляющий морализм, где исподнее считается высшей ценностью.
Тройное вымя питает небольшое число тех, кто услышали зов, уже будучи избранными, кто никогда не станет действовать: соображения конформизма, уважение наследия и жажда примирения.
Таким образом, камни, о которые его пациент спотыкается, не что иное, как устланная его добрыми намереньями дорога, годный способ для психоаналитика не отвергать движения того ада, из-за которого Фрейд ушел в отставку (SinequeoflectereSuperos - если не можем попасть в рай, то пойдем хоть в ад).
Ну уж и не к этой пасторали, не к этому подобию овечьей загородки вел Фрейд. Достаточно почитать его.
И то, что он назвал мифологией теорию влечений, еще не значит, что не нужно принимать всерьез описываемое в ней.
То, что демонстрирует эта теория, мы, скорее, назовем структурой желания, сформулированного Спинозой как горючее человека. Проявленное в структуре романских языков желание освободиться от высшего влияния претерпевает тут дефляцию, которая приводит к его небытию.
Довольно карикатурно, если психоаналитик верно нащупал, из своей склонности к анальным импульсам, что золото это дерьмо, а затем стал где-то сбоку расколупывать ранку любови, и затирать ее мазью аутентичности, трактуя золото как fonset… origo – начало… начал.
Вот почему психоаналитик не интерпретирует более как во времена belle époque, мы-то знаем. То есть, он сам плюнул себе в колодец.
Но так как хорошо было бы встать с четверенек, он пытается стать самостоятельным, то есть он ограничивает желание и воображает, что от этого становится самостоятельнее (фрустрация, агрессия… и т.д.). Castigatmores, бичует нравы, скажем мы: ridendo, смеясь? Увы, нет! Тут не до смеха: он выхолащивает нравы исходя из своих собственных странностей.
Интерпретация, он ее сводит к переносу, снова приводящего нас к безличной форме, нашему оn.
Выше мы сказали, как сегодняшний психоаналитик накапливает материал от анализанта: это все не к нему относится, а то, что он сможет проглотить, нужно облечь в форму, в форму жиденького… и тогда он приоткроет свой хорошенький клювик, если не закапризничает. Нет, то, что покрывает психоаналитик, это и то, чем он покрывается сам, Он заставляет себя сказать хоть что-нибудь, даже если до субъекта не дойдет это знание.
Méné, méné, thékel, oupharsin. Тебя оценили и сочли негодным. Если это проступает на стене, чтобы все это читали, то вам подпортили царствие на земле. Значит, это звучит в нужном месте.
И на одном махе с этим приписывают фарс Всемогущества, как если бы дыра закрылась сразу как о ней сказано, и во внимание не принимается даже то, что бряцанье этой поделки само является основным барьером для главного желания, желания спать. То, что Фрейд сделал последней инстанцией сновидения.
Не были бы вы так добры заметить, что единственное отличие, но такое, которое сводит в ничто то, что оно отличает, отличие бытия, то, без которого бессознательное Фрейда ничтожно, отличие в противовес всему что раньше выпустили под лейблом бессознательного, отличие, отмечающее все из области обращения к субъекту при появлении знания, возникает лишь когда речь заходит об том, что является для субъекта ошибкой?
Vergreifen(означ. у Фрейда: ошибка, это его слово для симптоматических действий), обходит Begriff (или же представление), производя пустоту, что проявляется и утверждается в том, что даже отрицание ошибки является индикатором согласия с тем, что она не изменит последующих действий.
Внезапно возникает вопрос, показывать ли ответ, который защитит его от противопоставлений. Знание может возникать лишь в ошибке субъекта, и как же мы заранее узнаем, каков из себя субъект?
Говоря об открытии числовых множеств, мы легко можем его предположить из того, как Кантор споткнулся о пустячную диагональ десятичных дробей, но мы себе не упростим вопрос, размышляя о ярости, которые его конструкции возбудили в Кронекере. Но пусть этот вопрос не заслоняет другой, относящийся к возникшему так знанию: с чего мы взяли, что числовые множества, которые «всего-навсего надо было узнать», ждали того, кто должен был стать их изобретателем? Если этого нет ни в одном субъекте, то Это тот, в котором содержится on бытия?
Предположительно знающий субъект, сам господь Бог, как называл его Паскаль, смотря на него с изнанки: это не Бог Авраама, Исаака и Якова, но Бог философов, вот он сияет своим латентным присутствием из любой теории. Theoria, станет ли она местом для мира théo-логии?
Это в христианской традиции с тех пор, как она существует, и приуменьшая это, атеист показывает того, кто за нее крепче всех держится. Мы догадывались: этот Бог немного больноват. Вменяемым его не сделает ни служитель экуменизма, ни лакановский Другой с большой буквы Д, даже и не надеюсь.
Для Dio-логии нужно было бы отделиться от этого: его Отцы нагромождают все от Моисея до Джеймса Джойса, не забывая и Мейстера Экхарта, но сдается нам, что опять-таки Фрейд лучше всего указал его место. Как я и говорил: без этого указания мест психоаналитическая теория ужалась бы до крайних точек, до разбора бреда типа шреберского: сам Фрейд в этом не ошибся и не побоялся это признать (означ. в точности его «случай Шребера»).
Это место Бога-Отца, это то, что я обозначил как Имя-Отца и то, что я предлагал иллюстрировать тем, чем должен был стать тринадцатый год семинаров (мой одиннадцатый в св. Анне), когда один пассаж моих коллег-психоаналитиков заставил меня отложить этот замысел после первого же урока. Более я не вернусь к этой теме, я увидел в этом знак, что сия печать не может быть сорвана даже ради психоанализа.
В итоге, на этом разверзнутом соответствии подвешена позиция психоаналитика. Не потому ли он призван создать теорию главной ошибки для субъекта теории: то, что мы назовем предположительно знающим субъектом.
Теорию, включающую нехватку, проявленную на всех уровнях, прописать здесь это в неопределяемости, здесь конечно, и сформировать узлы неинтерпретируемого; я этим пользуюсь неуверенно, чтобы не подтвердить беспрецедентное исключение. Вопрос тут вот в чем: что я такое, чтобы осмелиться на подобную разборку? Ответ прост: психоаналитик. Этого ответа достаточно, если к тому же учесть, что я практикующий психоаналитик.
Ведь именно начиная с практики психоаналитик должен пренебречь структурой, которая его определяет даже не в ментальной форме, увы! именно тут тупик, но в его позиции субъекта, поскольку он закреплен в реальности: это закрепление надлежащим образом определяет действие.
В структуре ошибки предположительно знающего субъекта, психоаналитик (но кто это, и где он, и когда он, заткните лиру категорий, психоаналитик это значит индетерминированность своего субъекта?), психоаналитик, тем не менее, должен отыскать уверенность в своем действии и разрыв, который диктует свои законы.
Стану ли я напоминать тем, кто об этом что-то знает, о несводимости того, что остается в финале психоанализа, и что Фрейд обозначил (Analyse finie et indéfinie - в Анализе конечном и неопределяемом) терминами кастрации и даже в зависти к пенису?
Можно ли избежать того, что обращаясь к никак не подготовленной в этому погружению в психоаналитический акт аудитории (поскольку этот акт представлялся ей только под искажающими покровами), я оставляю тему моего дискурса тем, чем она является для нашей реальности психологической фантастики: в худшем случае – субъект представления, субъект епископа Беркли, тупик идеализма; в лучшем случае – субъект коммуникации, интерсубъективность послания и информации, что не в состоянии даже послужить нам в нашем деле?
Несмотря на все то, чего мы коснулись на этой встрече, и вплоть до мнения, что я популярен в Неаполе, я все же не могу видеть в успехах своих Записок большее, чем знак предчувствия универсальности из иных более туманных построений.
Данная интерпретация, конечно же, верна, если она является порождением этого эхо вне французского поля, где теплый прием объясняется скорее тем, что я поддерживаю изоляцию 20 лет.
Ни один критик, со времени издания моей книги, не выполнил своей работы, которая заключалась в отдании отчета о моем существовании, ну кроме именуемого Жаном-Мари Озиасом, в одном из этих изданий на туалетной бумаге, где маленький формат не оправдывает типографической небрежности, это называется: Clefs du structuralisme, Ключи структурализма: часть IX посвящена мне, а в остальных на меня есть ссылка. Жан-Мари Озиас, повторюсь, подает надежды как критик, avis rara – редкие мысли.
Несмотря на этот случай, я ожидаю от тех, к кому я здесь обращаюсь, лишь подтверждения того, что они не в курсе.
Хотя бы запомните то, о чем вам свидетельствует этот текст, который я вам вбросил: мое предприятие в своих действиях не превышает полномочий, и поэтому мне везет только в моих ошибках (игра слов: в презрении – прим.перев.).
И опять о психоаналитическом акте, нужно ли говорить, что при типичном рассмотрении он просто упускается, это определение не навязывает (как и нигде в нашей области) взаимности, которая так дорого ценится в психологической бессвязице.
Это значит, что для успеха не достаточно окопаться и тут засесть, и из одного только наличия разрыва не следует, что тема ошибок полностью раскрыта.
Определенная задержка мысли в психоанализе, - оставляя играм воображения все, что может возникнуть из эксперимента, который с ними проделал Фрейд, составляет разрыв без дополнительных значений.
Вот почему значительная часть моего преподавания не есть психоаналитической действие, но полемический тезис, со всеми присущими спорами, об условиях, которые дублируют ошибку присущую акту, о неудаче при ее появлении.
Не будучи в состоянии изменить эти условия, я направляю усилия на выделение этой неудачи.
Ложная ошибка, эти два термина из названия комедии Мариво, обретают тут обновленный смысл, который радует нас самой этой находкой. В Риме, в память о поворотном для меня моменте, который там произошел, я изложу, насколько получится, соображения об измерении этой неудачи.
Судьба покажет, великим ли станет будущее тех, кого я обучал.
Ж.Л.
Перевод П.Ювченко
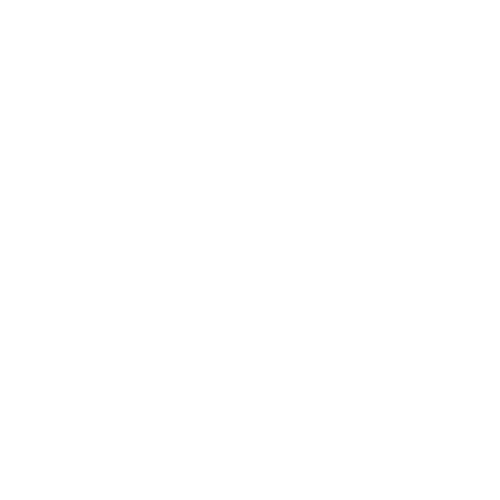
Вы можете связаться со мной удобным для вас способом
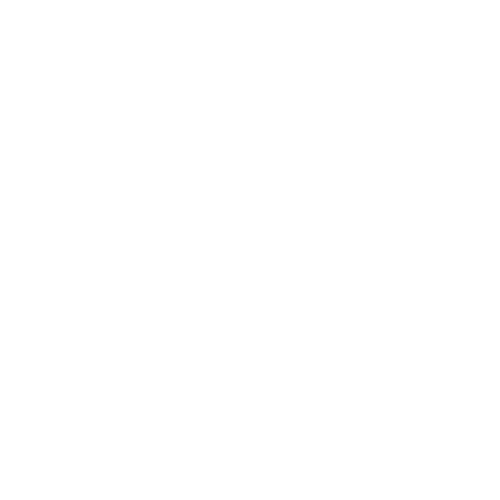
Вы можете связаться со мной удобным для вас способом
© All Rights Reserved. Elena Medvedeva
made by Inessa Hartmann
made by Inessa Hartmann
